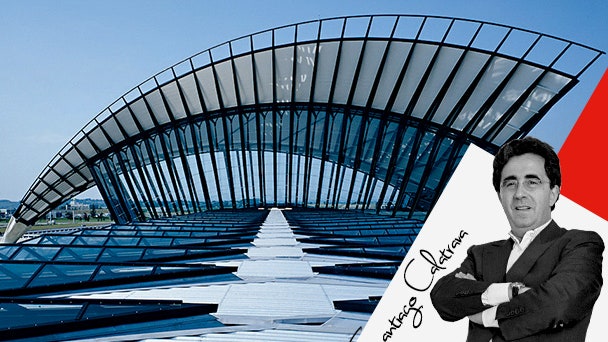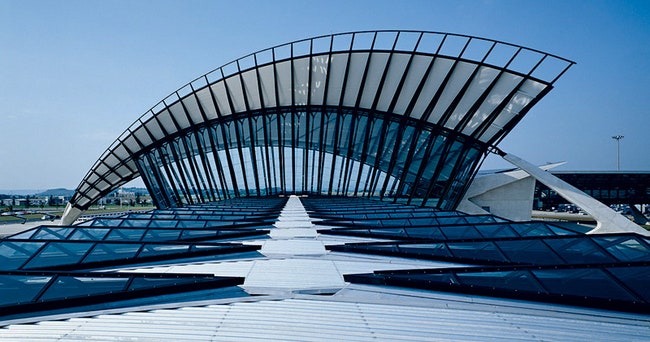На двери нью-йоркского офиса Сантьяго Калатравы табличка c надписью по-немецки mustermann – “проектировщик”. Один из самых прославленных современных архитекторов даже не счел нужным упомянуть свое имя. “Кому, в конце концов, интересно, как меня зовут, главное, как я умею строить”, – объясняет Калатрава. За внешней скромностью бездна гордыни: для испанского архитектора мир – один большой проект, который он может изменять по своему усмотрению. В его случае лучшим переводом слова mustermann будет “творец”.
Будущий “властелин мира” учился архитектуре в то время, когда еще не было ни 3D-графики, ни компьютерных программ проектирования. Возможно, именно поэтому он до сих пор мыслит не виртуальными объемами, а вполне реальными физическими объектами. Или, как сформулировал это в статье 2005 года архитектурный критик журнала New Yorker: “Калатрава переводит на язык архитектуры чудеса природы”. Скрученное спиралью тело античного дискобола испанец превращает в небоскреб в шведском городе Малмë, а в строении человеческого глаза находит форму для планетария в своей родной Валенсии. Для проекта станции подземки рядом с бывшим зданием Всемирного торгового центра Калатрава сделал более сотни зарисовок взлетающих голубей. Таким был ответ архитектора на трагедию 11 сентября.
– Лучшая книга о случившемся – “Жутко громко и запредельно близко” Джонатана Фоера – заканчивается серией фотографий человека, прыгающего с одной из башен. Если быстро листать страницы, он начнет двигаться – только не вниз, а вверх. Мое здание должно стать таким же символом оптимизма и непоколебимой веры в будущее. Даже если сейчас она кажется невыносимо хрупкой.
Острое ощущение времени, одно из главных понятий испанской культуры, Калатрава однажды довел до абсурда, создав мост – солнечные часы в Калифорнии.
– До середины 1990-х годов я был знаменит главным образом как изобретатель нового типа мостов на одной опоре. Я уже и сам не помню, сколько их построил, но больше трех десятков, это точно. От них не устаешь. Каждый новый мост – словно математическая задача, которую надо решить не самым простым, но самым красивым способом.
В Иерусалиме недавно был торжественно открыт мост Chords (“Струны”) – последнее творение Калатравы. На сегодняшний день это самый длинный транспортный – а значит, способный выдерживать значительные нагрузки – вантовый мост в мире. Критики до сих пор спорят, так ли необходимо это технологическое чудо небольшому городу с неустойчивыми грунтами, но летящий силуэт восхищает даже самых ярых противников.
– Все это мелочи по сравнению с тем, что мне позволили строить в островной Венеции. Не скажу, что мой мост Quattro Ponte через Большой канал особенно украсил город, но он был необходим для нормального функционирования Венеции. Традиционалисты меня пока не убили, а это не так уж мало.
В детстве Калатрава собирался стать художником, но во время подготовки к вступительным экзаменам в художественную школу наткнулся на “маленькую книжку с прекрасными фотографиями сооружений Ле Корбюзье”. Она и определила его будущее. Калатрава начал учиться архитектуре и градостроительству в Валенсии, а затем поступил на инженерный факультет Цюрихского технологического института.
– В 1970-х годах нельзя было и заикнуться о том, что архитектура – это искусство. Тебя тут же провозгласили бы petit bourgeois. В курсе истории искусства мы изучали величайшие архитектурные сооружения, но нам упорно продолжали доказывать, что архитектор сегодня не более чем ремесленник. Меня всегда смущало это противоречие. И когда я уехал учиться в Швейцарию, оказалось, что я просто вращался не в тех кругах. Испания все-таки особенная страна, со своим представлением о положении вещей.
Неожиданное утверждение для архитектора, которого испанцы считают своим национальным достоянием.
– Трудно ассоциировать себя с каким-то конкретным территориальным образованием, если у тебя строительные площадки разбросаны по всем континентам. Я свободно владею семью языками, впрочем, на всех говорю с сильным испанским акцентом. По официальной версии, пять лет назад я осел в Нью-Йорке. Что ж, можно сказать и так.
Штаб-квартира империи Калатравы расположилась в роскошном трехэтажном офисе на аристократической Пятой авеню. Отсюда он каждый день проводит видеоконференции с отделениями в Валенсии и Цюрихе. На верхнем этаже – личная студия мастера. Сюда не рискует заходить даже его главный юрист и по совместительству жена. Они познакомились во время учебы в Швейцарии, и с тех пор Робертина занимается всеми “бумажными делами”.
– В студии нет никаких средств связи с внешним миром. Мне каждый день необходимо хотя бы на час выпадать из реальности. И рисовать. Иногда новые проекты, иногда просто бессмысленные узоры. Я очень люблю старую китайскую поговорку “в одном рисунке больше правды, чем в сотне слов”.
Весь нижний этаж занимает большая галерея с работами Калатравы: он сам делает керамику, пишет акварелью пейзажи и создает из дерева макеты зданий, которые пока не может построить.
– Это не бумажная архитектура – я ее не признаю. Просто для этих проектов еще не пришло время. Считайте их заделами на случай внезапного наступления светлого будущего. Может быть, однажды по ним, как по рисункам Леонардо, будут строить летательные аппараты. Или, в моем случае, – здания на планетах с другой гравитацией.
На рабочем столе архитектора – коллекция фарфоровых голов. Это макеты дверных ручек в самом амбициозном проекте Калатравы – чикагском небоскребе Chicago Spire. Его проектная высота – шестьсот девять метров.
– Говорят, он похож на бурав, который вот-вот проткнет небесную плоть. А по-моему, у него очень естественная форма, в ней нет агрессии. Сооружение такой высоты в любом случае будет ландшафтообразующим, но главное в нем – бесконечность движения вверх.
Здания Калатравы называют “жилыми скульптурами”, “новой интеллектуальной архитектурой” и “формами, рожденными самой природой”. Сам архитектор с готовностью отказывается от славы.
– Я не рвусь в высшую лигу архитекторов и терпеть не могу названия вроде “мост Калатравы”. Я хочу строить так, чтобы оставались только здания. Никто, кроме историков, не помнит имен Анфимия из Тралл и Исидора из Милета, строителей Святой Софии в Константинополе. Они, кстати, были не архитекторами, а математиками. И когда попадаешь в этот собор, кажется, никаких имен у них и быть не могло, потому что не может это идеальное пространство быть делом рук человеческих. Поэтому лучше все же вернуться к тому, чему меня учили в Валенсии. Aрхитектор – не шоумен в погоне за сенсацией. Он тот же рабочий. Матисс писал картины каждый день и считал себя ремесленником от живописи. Вот и я бы хотел так же заниматься архитектурой. С восьми утра до восьми вечера. Каждый день.
Беседовала Дорис Шеврон
Фото: АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ; ALAN KARCHMER/ESTO; JOCHEN HELLE/ARTUR/RUSSIAN LOOK; KATJA HEINEMANN; PAOLO ROSSELLI; PAUL RAFTERY/VIEW/RUSSIAN LOOK; SANTIAGO CALATRAVA S. A./©ALBERT VECERKA/ESTO; WWW.THOMASMAYERARCHIVE.COM